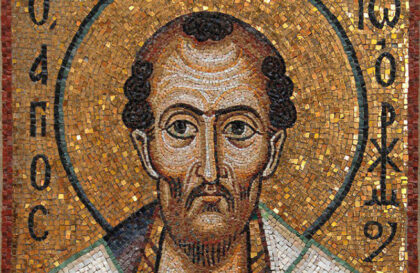Интервью с Владимиром Ивановичем Якунцевым, сотрудником Научно-методического центра по миссии и катехизации при СФИ

Что значит для Вас служение Богу? Как давно оно появилось в Вашей жизни? Как Вы шли к этому?
Для меня служение Богу – не что-то специальное, отдельное, но прямое следствие решения, которое я когда-то принял – реально в своей жизни, насколько это возможно, подражать Христу. Для кого-то это может звучать просто как фраза, как богословская идея, а для меня огромная радость в том, что в своё время это открылось не как идея, а как большое вдохновение и желание воплотить это на практике. Для меня было одним из важнейших откровений, что Иисус открыл Себя как слуга (Мф 20:28), и если Он где-то появлялся, то прежде всего мы видели Его не как того, кто восседает и кого обслуживают, а Того, Кто Сам встаёт и начинает, даже в самых простых вещах, помогать, восполнять и делать добровольно Самого Себя слугой.
Да, можно в разных вещах служить, в том числе и в самых простых, как Вы говорите. А есть ли какие-то основные вещи, которые Вы видите как своё призвание?
Осознание своего призвания, своего служения – это целый процесс. И каких-то учебников, которые давали бы какой-то «алгоритм», чтобы взять и найти своё призвание, своё служение, в моей жизни не было. Были и существуют сейчас живые примеры служащих христиан, которых Господь удостоил меня встретить в моей жизни. Но дело не только в примерах, а в каком-то внутреннем открытии, которое произошло в своё время, почему, собственно, я и стал видеть эти примеры, которых прежде не замечал.
Служение предполагает, что ты исходишь из других. И настоящее моё призвание, служение после того, как я эту проблему со временем понял, было связано не с тем, что для меня радостно, а с тем, что мне чувствовалась чья-то боль.
Во всём этом были определённые стадии. Была всем известная стадия, когда мне казалось, что призвание и служение должны быть связаны с чем-то, что даёт максимальную радость, вдохновение. Я несколько по-своему понял суть беседы преподобного Серафима с Мотовиловым. Она на меня в начале моей христианской жизни оказала очень большое влияние. Но я не заметил одной проблемы. Там говорится о стяжании Святого Духа, но читателю не всегда понятно, что невозможно его стяжать для себя. И служение искать, имея критерием какие-то собственные переживания, тоже невозможно. Служение предполагает, что ты исходишь из других. И настоящее моё призвание, служение после того, как я эту проблему со временем понял, было связано не с тем, что для меня радостно, а с тем, что мне чувствовалась чья-то боль. И особенно – боль неверующих людей. Мне очень больно, трудно, скорбно видеть людей, которые живут без Бога, без пути, а часто даже не имея возможности сделать выбор этого пути, потому что им об этом выборе просто неизвестно. Из этой точки, наверное, вытекает всё остальное.

Мы все знаем, что есть такие люди – как магниты. К ним ищущие Бога, Христа сами тянутся как металлические стружки. А другие, сколько ни стараются, на них человек смотрит и говорит: «Вот какой ты молодец, как у тебя всё здорово, но мне твоя христианская жизнь, в общем-то, не нужна». Как Вы людей к Богу приводите? Вы с ними заговариваете о вере или ждёте, когда они сами спросят? Как разговор повернуть, как подвести человека к мысли, что эта жизнь ему нужна?
В ответе на этот вопрос существует много ложных ходов, и нужно было бы дополнить картину. Представьте себе свидетеля-христианина, который готовился к подобным беседам и научен не делать каких-то грубых ошибок, ясно излагает свою мысль, чувствует, что можно сказать человеку, что нельзя. Так вот: представление о том, что к нему «люди липнут как стружки», неполно. К нему действительно липнут, но только люди определённого рода, а вот другие – отталкиваются от него. Об этом никогда не надо забывать. И эту последнюю деталь надо иметь в виду. Помните известную фразу из послания апостола Павла к коринфянам, где он говорит: мы (здесь он говорит про свою «команду», про тех, кто путешествовал ради свидетельства вместе с ним) распространяем вокруг себя благоухание познания о Господе. И дальше он говорит: для спасаемых – благоухание к жизни, а для погибающих – к смерти. И вот эта картина – полная. Под спасаемыми апостол имеет в виду не уже уверовавших, а тех, кто тянется к вере. Неверующие – очень разные. Каждый неверующий дрейфует куда-то на своём пути, и христианин-свидетель притягивает к себе тех, кто хочет идти к свету, и отталкивает тех, кто от света закрывается. А почему это происходит – тайна. Дело не в каких-то словах или фразах, а в вере и надежде. В вере в то и надежде на то, что там, где верные христиане, верующие люди, во-первых, собираются «вдвоем или втроем»; во-вторых, хотят исполнить заповедь Христову, а не только слышать Его слово; и в-третьих, быть открытыми в этом ученичестве, т. е. делиться этим опытом, – высвобождается какая-то сила «сделать учениками» других. Обратите внимание, что все эти три вещи в Евангелии связаны с обещанием присутствия Христа – Его подлинного присутствия в мистическом, но очень реальном действии, которое чувствуют все (только слово «чувствуют» поймите правильно, я не эмоции имею в виду). И если эти три вещи соединяются в одной точке, то все, кто при этом присутствует, даже те, кто ещё себя верующим не считает, соприкасаются с чем-то, что они и назвать-то часто не могут, и вот это-то, собственно, их и притягивает (а кого-то, как я уже говорил, отталкивает). И это (мыто знаем) и есть присутствие Самого Христа, Который исполняет Своё обещание. Плод же таков: у каждого из участников этого события, этой встречи произойдёт какое-то откровение, открытие, будет явлен какой-то смысл, который ему очень важен. Это нельзя произвести никаким человеческим «лайфхаком». Вот в этом вся тайна. А дальше просто нужно этому быть верным.
Правильно ли мы понимаем, что если не очень получается свидетельствовать о вере, то вопросы в первую очередь надо адресовать к себе?
Да, дело в том, что мы абсолютно уверены: Господь обещание о Своём присутствии и действии среди нас исполнял и исполняет. А если этого не происходит, значит, какие-то условия не соблюдены с нашей стороны, и прежде всего не в области поведенческой, а в области веры и надежды.
Важно сказать, что в Преображенском братстве есть практика послушничества, которая связана не с подготовкой к тому, чтобы стать монахом, но с тем, чтобы войти в аскетическую традицию церкви и её активно воспринять в тех формах и на том уровне, который тебе доступен и нужен как христианину, живущему не в монастыре, а в обычных условиях.
Мы знаем, что нужно пройти через этап послушания Богу и Церкви, чтобы обрести служение. Как в Вашей жизни осуществлялся выход на служение катехизации – Вы стали служить после послушания или в Вашей жизни это всё как-то вместе органично проходило?
Важно сказать, что в Преображенском братстве есть практика послушничества, которая связана не с подготовкой к тому, чтобы стать монахом, но с тем, чтобы войти в аскетическую традицию церкви и её активно воспринять в тех формах и на том уровне, который тебе доступен и нужен как христианину, живущему не в монастыре, а в обычных условиях. Вот и я тоже по милости Божьей оказался причастен к этой практике. И конечно, это очень помогло. Даже не помогло, а в моей личной истории это, наверное, было главным условием будущего служения. Ведь предыстория моей жизни до прихода к вере и в Церковь (я был тогда совсем молодым) была достаточно травматична, и поэтому если бы надо мной «доктор-травматолог» особо не потрудился (смеётся), то, конечно, полная духовная инвалидность была бы обеспечена надолго или навсегда. Опыт послушничества в 1994–1999 годы позволил мне уже с 1995 года войти в практику ведения огласительных групп. И первая группа, которую я вёл, воцерковилась на Успение 1996 года.
Ну а дальше шло какое-то становление, шло, конечно, нелегко. Случались со мной такие истории, которые, если их сейчас и рассказывать, совершенно точно попали бы в раздел «как делать не надо». Слава Богу, что эти истории по милости Божьей не закончились чем-то тотально разрушительным, но степень риска была очень большая. Так что период между завершением послушничества и тем, что я осознал как своё целожизненное служение, занял у меня 10 лет. А сейчас те, кто идёт следом, учитывая все наши уроки, конечно, достигают того же раз в десять быстрее.
Почему служащему человеку необходимо глубоко осмыслять то, что он делает, связывать это с Богом, с духовными реальностями? Почему в служении нельзя просто поступать так: прочитал книжку, какие-то рекомендации усвоил и пошёл что-то делать?
Служение резко отличается от всех других видов активности человека, потому что оно предполагает достижение целей, которые недостижимы никакой человеческой энергией и мудростью. Вот в чём дело. И поэтому понять, служит человек или не служит, можно уже по тому, чего он хочет достичь. Если он ставит те цели, которые ставятся перед христианским служением, то совершенно понятно, что, говоря более «технично», сверхъестественная цель предполагает и сверхъестественные средства, которые «не запускаются», когда человек в какой-то мути находится. Поэтому человек должен быть в полном сознании, он должен принять очень серьёзное, бесповоротное решение. Это как отплыть куда-то в океан, когда очень быстро настаёт та точка, откуда обратно вернуться нельзя. Можно идти только вперёд. Так и здесь.
Поэтому, конечно, осознание целей и тех даров, служа которыми только и можно достигать этих целей, принципиально необходимо. И на это, конечно, тратится много сил, а иногда и времени. И тогда что-то получается. Служение предполагает жизнь на определённой глубине, потому что, как я уже сказал, связано с синергией с Богом и в целях, и в средствах.
Служение – это не просто развитие послушания. Нет, это некий прыжок, когда ты решаешься приносить плоды, решаешься опереться на дары, а, следовательно, ради этого от многого отказываешься.
То есть для каждого человека, который ищет или даже нашёл своё место в Церкви, это требует вхождения в осмысление именно на глубине, в самой сердцевине веры, того, что человек может принести для Бога и с Богом?
Да, конечно. И в этом проблема. Потому что для того, чтобы действительно обрести реальное служение, для того, чтобы в нём пребывать и осуществлять его, нужен некий «квантовый скачок». То есть это не поступательное движение на пути добрых дел и послушания. Добрые дела, а тем более послушание могут быть святыми, но вот так прямо, эволюционно они не приводят к служению. Служение – это не просто развитие послушания. Нет, это некий прыжок, когда ты решаешься приносить плоды, решаешься опереться на дары, а, следовательно, ради этого от многого отказываешься.
Каждому, наверное, хочется, глядя на людей служащих, обрести в своей жизни служение. Не для себя, а для Бога и для людей. Вопрос от брата: какое служение выше, служение мирян или служение клириков? И нужно ли мирянину стремиться к рукоположению, чтобы «послужить по-настоящему»?
На этот вопрос не просто ответить правильно, когда сразу задаётся дихотомия: клирики и миряне. Потому что, как известно, миряне, с точки зрения канонов, это непонятно кто. Непонятна сфера их ответственности. Есть версии. И всем известно, что это за версии. Основная версия – что это просто мирские люди, «биотикос». Но в последнее время я чувствую, что есть попытка слово «миряне» как-то более церковно осмыслить. В «Концепции миссионерской деятельности РПЦ», например, говорится, что миряне – это посланные в мир.
Да, с точки зрения обычной, «периферийной» совершенно ясно, что клирики иерархически выше мирян, потому что по факту миряне – это непонятно кто. Безответные и безответственные члены церкви. Ну а с точки зрения изначальной традиции Церкви, конечно, важно понимать, что священниками, в общем-то, являются все верные (1Пет 2:10). А те, кого мы называем священниками, они рукополагаются «во пресвитеры», то есть в старшие среди верных. И своё пресвитерство они нормально могут осуществить только тогда, когда находятся в окружении реальных верных, то есть тех, кто взял ответственность за дело Божие в этом мире, за дело Божие в Церкви и решился служить теми дарами, которые Господь дал. И в этом общении выявляются настоящие пресвитеры. В этом смысле они, конечно, старшие, старцы, потому что и само слово «пресвитер» переводится как «старший» или «старец». А вот можно ли быть пресвитером, если вокруг одни миряне? Наверное, нет. Тогда это старшинство не новозаветное, не евангельское, а какое-то другое, в лучшем случае ветхозаветное.
Если же вернуться к вопросу о рукоположении, то я думаю, что если есть возможность, если есть призвание, то, конечно, рукополагаться – дело хорошее, потому что в среднем мера ответственности, ясности в жизни, в выборе, в приоритетах у рукоположенных братьев выше, чем у нерукоположенных. Но бывают и случаи, когда рукоположение ограничивает для человека возможности для созидания церкви, служения Богу и людям.
Что бы Вы пожелали читателям «Кифы» на пути к обретению служения?
Прежде всего пожелал бы дальше читать «Кифу». А ещё – никогда не соглашаться на хорошее ценой потери лучшего. Помнить, что фраза «лучшее враг хорошего» очень лукавая. Тот, кто выбирает хорошее, отказываясь от лучшего, всегда лишится лучшего, а тот, кто выбирает лучшее, тому хорошее в конце концов прикладывается. И я призвал бы выбирать лучшее.
Беседу вели Анастасия Наконечная, Юрий и Надежда Крапивины, Елена Мигунова
Видеозапись беседы можно посмотреть в видеорубрике нашей газеты «Кифа и кофе» в сети Вконтакте.
Фотографии из архива Преображенского братства