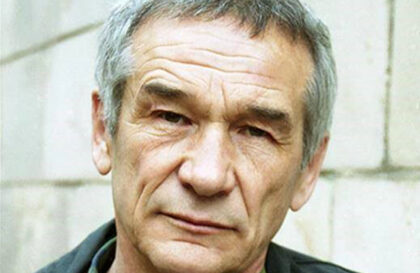– Варвара, дочь моя, Варвара,
что в третье окно ты видишь?
– Я вижу в рубище славу
и свет – в темнице непроглядной.
Рабы ликуют в оковах,
и дитя смеётся под розгой.
До крови, до кости, до боли,
до конца и без конца – радость.
«Дух культуры подпольной, как раннеапостольский свет,/ брезжит в окнах, из чёрных клубится подвалов», – сказал Виктор Кривулин о неподцензурной поэзии позднего советского времени.
Духовная поэзия жила в подполье: в самиздате, на кухонных посиделках и полулегальных поэтических вечерах. Кризис, связанный с крахом сталинизма, подтолкнул многих людей к поиску духовных основ жизни. Неслучайно в 1960-е годы появляется значительное число авторов, осваивающих религиозный пласт бытия.
Главной религиозной интуицией «второй культуры» (так ещё иногда называют андеграунд) можно, пожалуй, считать откровение о Царстве Небесном. Другой важной интуицией стало откровение о человеке. Антропологический поворот проиллюстрируем поразительной строчкой Игоря Бурихина: «И Божий страх есть страх за человека». Именно так: антропология рассматривается андеграундом в контексте Божественного присутствия. В поэзии андеграунда отыгрывались разные сюжеты, связанные главным образом с православием. Здесь мы видим поэтическую рецепцию Библии и богослужений, описание церковных праздников и традиций, постановку мировоззренческих и культурологических проблем. На фоне духовных вопросов и поиска нового поэтического слова осваивается тема молитвы и святости.
Например, Сергей Бирюков берёт в качестве сюжета стихотворения «Спаси и сохрани» (1979) молитвенное правило бабушки. Он слышит молитву как бы со стороны, не вникая в её суть: «Осподи …… веру/… наиду… колая антонину/ анну и деток их… дра/ сергея влади… лидию/ спаси и сохрани/ и отпусти… решения наши». Поэт, хотя и глядит на происходящее со стороны, испытывает чувство родства со старушкой. И его сердце стучит в такт словам бабушки: «Спаси и сохрани».
Герой Василия Филиппова любит посещать богослужения, подолгу находиться в храме, наблюдать за поведением клириков и прихожан. Поэт движется в сторону примитивизма, и подчёркнуто просто, прозаично, можно даже сказать, глазами ребенка описывает увиденное: «Сегодня был в церкви / Море благодати <…> / После причастия – со скрещёнными на груди руками, / Дети в куртках красных, словно пламя, / Между собой болтали».
В творчестве Филиппова большую роль играют иконы. Он и описывает их, и движется в своей речи в сторону иконного изображения. Например, когда даёт интерьер храма. Это не сугубо реалистическое описание, а художественная игра: «Икона отводит взгляд. / На её языке, на греческом, в церкви не говорят. / Ребёнок свесил ступню, давит ею ладонь-виноград. // Молятся стены церкви / О всех присутствующих здесь, / Молятся краски икон, глаза, положенные на грудь. / Обнять, прежде чем глубоко вздохнуть». Иконы, фрески предстают здесь как существенно значимые вещи, которые имеют свой голос. И этот голос – «взрослый младенец / у сердца».
В иконном разрезе говорится и о богослужении. Филиппов фиксирует его как некий образ, как икону. Его не притягивает церковная эстетика как таковая. Красивые распевы и завитки барочного иконостаса его мало интересуют. В храме больше всего поэта волнует Смысл: что читается, о чём поётся, как проповедует священник. И неважно, праздничная служба или обиход. Лишь бы эти ростки Смысла оживали и давали силы.
Сакральный мир – дом поэта. И он отчётливо осознаёт, что этот дом имеет иное идеологическое наполнение, чем пространство улиц и площадей «колыбели революции». Не случайно о причастившихся детях поэт говорит: «В храме собрался Анти-Ленинград / ребят». Это редкий случай, когда религиозная политика советской власти напоминает в стихах о себе так явно.
* * *
Обратимся теперь к житийной теме. Жития святых и их литургическое почитание является важной частью церковного Предания. И, понимая это, поэты культурного подполья спорадически обращались к агиографии.
Так, святой VI века Марии Египетской, считающейся покровительницей кающихся женщин, посвятил свои стихи Николай Байтов. Он создал поэму «Мария Египетская» (1977–1981). В ней автор довольно точно пересказывает житие святой. Поэма написана в форме акафиста, представляющего собой большую форму традиционной литургической поэзии и состоящего из двух малых форм – кондака и икоса. У Байтова они отличаются разной ритмикой – кондак более торжественный, а икос более разговорный. Байтовский кондак начинается с буквальных цитат акафиста: «Преподобная мати Марие / моли Бога о нас», «Преподобный отче Зосиме, / моли Бога о нас». И затем разворачивается в душеспасительном ключе. Например: «В тесном мире – в тисках деспотии – / неисходно томясь, / мы душою поникли и даже, / добровольно блудя, / говорим, что сознание наше – / функция бытия. // Нет у миропорядка земного / ни дверей, ни окон. / Каждый взгляд, каждый вздох тут закован / в неотменный закон. / Плоть вещей здесь темна, самовластна, – / и гнила, и дурна, – / так зачем в столь жестокое рабство / ей душа отдана?»
Икос несёт всю тяжесть повествования. «Возьмите меня, мальчики! / мне нечем заплатить, – / но я сильнее качки / морской – могу любить!» – говорит ещё не раскаявшаяся в своих грехах блудница и отправляется из Александрии в Иерусалим.
Байтовское произведение – замечательный образец, в котором поэзия переплелась с риторикой. Так, обыгрывая марксистскую идеологему о вторичности сознания, поэт выстраивает триаду. Тезис: «добровольно блудя». Антитезис: «сознание наше – функция бытия». Синтез – свобода от греха. «Ты, – обращается к святой Байтов, – за Иордан из плена / плотского убежавшая, – // два с половиной хлеба / в теченье лет вкушавшая, – // как собственные страсти, львов / смирявшая слезами, – // помимо начертанья слов / познавшая Писанье, – // искание бесчестное / в святое преложившая – / во плоти невещественное / житие пожившая, // тем в крайнее повергнув / изумление собою / ангелов чины – и человеков / соборы» – «моли Бога о нас».
Просторечья используются здесь крайне дозировано и сочетаются с высоким «штилем». Многочисленные ритмические переходы и мелодика способствуют лёгкому движению стиха. Заключительный двенадцатый кондак перекликается с первым и закольцовывает поэму.
В поэтических святцах есть ещё одна греческая святая – мученица Варвара. С ней связан «Стих о святой Варваре» (1983) Сергея Аверинцева. Если воспользоваться словами самого учёного, сказанными, правда, по другому поводу, эти строки – самозабвенное траурное ликование медлительных созвучий. Они выстроены как диалог между христианкой Варварой и её отцом, язычником Диоскором:
– Варвара, дочь моя, Варвара,
что в третье окно ты видишь?
– Я вижу в рубище славу
и свет – в темнице непроглядной.
Рабы ликуют в оковах,
и дитя смеётся под розгой.
До крови, до кости, до боли,
до конца и без конца – радость.
И земля, и море проходит,
но любовь пребывает вовеки.
Диоскор, чтобы угодить кесарю, отрубает родной дочери голову.

В тексте немало скрытых и явных цитат из Писания. Но не только. В одном месте Аверинцев вспоминает 21 сентября 1949 года. В этот день одна невинная девушка получила 25 лет лагерей и чувствовала одно – всё кончено, всё распалось. Но вдруг девушка вспомнила, что сегодня праздник Рождества Богородицы, и стала петь богородичные песнопения. «Я ввёл отголосок её пения в строки “Я слышу как поёт дева”», – пишет в примечании к поэтическому тексту Аверинцев.
Из текстов, посвящённых самому известному в России святому, следует назвать «Сергий Радонежский» (1978) Ольги Седаковой. Он написан в характерной для поэтессы манере, когда одна и та же мелодия бесконечно варьируется, и мы оказываемся внутри музыкального действа.
Автор идёт по касательной к житию преподобного. Рассказ возникает посредством апофатики, отрицания агиографии. Уже не оставалось никого, говорит поэтесса: «ни мальчика, глядящего на воду». «Ни мужа, разделившего с медведем последний хлеб». «Ни старца, о котором говорили, что ангелы беседуют при нем».
Седакова назвала свой текст «легендой». И мы ни на минуту не сомневаемся, что находимся в каких-то условных пространствах. Они не то чтобы сказочные, но имеют отношение к другой, нематериальной реальности.
Как соотносятся легенда и реальность? Этот вопрос возникает, когда мы знакомимся с некоторыми произведениями Пудовкиной, Игнатовой и Кублановского.
Елена Пудовкина в стихотворении «Где-то в дальнем краю, во владенье Бориса и Глеба» вписывает свою героиню в мифопоэтический космос. Земля святых Бориса и Глеба недалеко. И она святая. Впрочем, святая – это не значит недоступная простым смертным. Здесь можно «посмотреть, как деревья на ветках качают / То гнездо, то звезду». И здесь можно остаться: «А чтоб даром не брать ни воды, ни Господнего хлеба, / Я наймусь лошадей сторожить у Бориса и Глеба». Легенда, по Пудовкиной, помогает укрепиться в вере.
Елена Игнатова в трудную для себя минуту видит в ладье святых Ферапонта и Кирилла (поэма «Ночь в Ферапонтово»). И тревога куда-то уходит. Легенда, как и в случае с Пудовкиной, усиливает вертикальные интуиции: «Горяча молитва – солнышко зажгла, / на землю росою оседала мгла, / пискнула синица, дрозд прощёлкал внятно. / – Ферапонт, мой брате! / – Да, отец Кирилл? / – Ты своей молитвой душу воротил, / поспешим обратно».
А вот у Кублановского легендарные события, связанные с жизнью святых, открывают окно в реальность церковного строительства: «Там – указал Кирилл. / Ёлочный горизонт / в блеске вечернем плыл. / Да – сказал Ферапонт. / И песнопенья стай, / что в облаках с весны / – от монастырских свай / до островов Шексны». Есть у Кублановского стихи, посвящённые не только святым Древней Руси, но и новомученикам. Например, стихотворение «Памяти алапаевских узников».
Точными, уверенными мазками поэт воссоздаёт картину бойни членов царской семьи, среди которых были свв. Елизавета Фёдоровна и инокиня Варвара: «И стали чекисты палить вразнобой / в столпившихся узников плотной гурьбой». Вот их сбрасывают в шахту: «Как долго ещё из земной глубины, / заваленной наспех, казалось, слышны / окрест песнопенья монахинь!». Казалось, всё кончено, но жизнь после смерти продолжается: «непорочное Слово хранит / как будто железную взвесь малахит, / иного значенья приметы, / – как мощи нетленные Ерусалим / при жизни утешившей платом своим / монахини Елизаветы». Как известно, останки Елизаветы Фёдоровны и Варвары были перенесены в Иерусалим, где и находятся до сих пор в церкви Марии Магдалины в Гефсимании.

Для питерского подполья значимой святой, не канонизированной в советское время, была Ксения Петербургская. Ей посвятили свои произведения Игнатова и Бобышев.
Елена Игнатова в небольшом стихотворении «Пела и на клиросе, / и под небесами» (1981) рисует образ святой: «Обходя без устали / городок-пустыню, / площади и улицы / все перекрестила». Обратившись к просторечью, Игнатова даёт почувствовать глубинную связь юродивой с народной верой: «Все согреть старалася / каменное ложе / Ксения Петербургская – / тайная надёжа».
В другом тексте «Сколько горя, сколько чёрной боли» (1981) она признаётся: «Но когда у Ксении Блаженной, / у её часовни жду рассвета: / – Жено, о блаженнейшая жено, / сколько счастья было, сколько света!»
Дмитрий Бобышев написал стихи о чтимой юродивой на год раньше Игнатовой, в 1980-м. И написал их в эмиграции.
«Ксения Петербуржская» – это трёхчастная композиция. Причём первые две части посвящены истории, а в последней говорится о почитании святой в СССР. Здесь поэт приводит массу любопытных подробностей. Мы видим: «Стоит на кладбище Смоленском склеп-калека, / на “ладанки на грудь” растащен, а – стоит». Склеп испещрён надписями, фиксирующими определённый срез ментальности: «“Святая Ксения, избави от аборта”, – / наскрябана мольба. И дата – наши дни. / “Сдать на механика позволь”. “Оборони” – / Здесь – гривенник в щели. А там – пятиалтынный. / “от зла завистников…” “Дай преуспеть в латыни”. / И – даты стёртые. “Споспешествуй в пути…” / И – “Отведи навет…”. И – “Виноват, прости!”. / И – “Благодарствую”. И – “Слава в вышних Богу”». Это блестящий монтаж цитат, фрагмент центонной поэзии. Поэт вписывает и себя в пространство Смоленского кладбища. Он молится «о нелишеньи дара».
Бобышев замечательно подобрал не только ритмы, но и реалии, речевые повороты. «Ксения Петербуржская» замечательно воспроизводит церковные представления простых людей тех лет.
Борис Колымагин
Кифа № 3 (283), март 2022 года