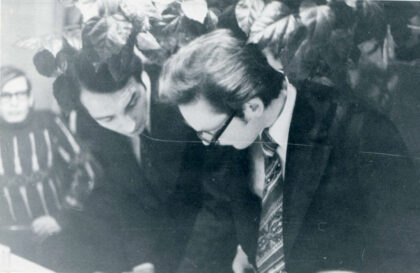Об истории Преображенского братства рассказывает священник Георгий Кочетков. Продолжение1

Последний из материалов «Кифы», посвящённых истории Преображенского братства, заканчивался 1993 годом. Дальше хронологически шли долгие годы гонений, ужесточавшихся во время трёх их «волн», которые условно можно привязать к 1994, 1997 и 2000 году. Попробовав подготовить материал по первой из них, мы поняли, что в газетном формате рассказать об этих событиях невозможно: краткий рассказ слишком «пунктирен» и оттого непонятен, подробный же слишком объёмен. Тех из наших читателей, которые хотят разобраться в истории этого периода, мы отсылаем к серии сборников «Христианский вестник» (с двумя из них можно познакомиться по ссылкам hv-3.ru и hv-4.ru). Здесь же скажем лишь, что Братство несмотря ни на что продолжало расти и укрепляться и оставалось живой и плодоносящей частью Русской православной церкви. Именно об этом и рассказывает наш сегодняшний материал.
Как появилось Содружество малых братств?
Это преобразование началось в 1997 г., так как в братстве было уже более 100 только московских групп и общин, а ведь были ещё группы и общины в других городах2. Я стал думать, как их организовать, чтобы они не только смотрели в рот старшему, как это часто бывает в первые годы жизни в церкви, а сами устраивали свою церковную жизнь. В конечном счёте я придумал разделить московские группы на «вертикали». Это значит, что если взять номер группы, то в случае, когда он заканчивается на единичку, группа будет относиться к первой вертикали, если на двойку – ко второй и т. д. И получилось десять вертикалей. Это было хорошо, но такое деление было ещё математическим, механическим.
Мы не просто разбились на десять вертикалей, но постепенно духовный процесс сам привёл к тому, что эти вертикали стали самостоятельными братствами. Они могли быть соизмеримы по численности, по духовной мощности с теми частями Преображенского братства, которые существовали в других городах. А иначе было странное положение: будто есть огромное московское братство, а остальные как бы малые сателлитики при нём. Это было для меня духовно не очень приемлемо.
Оказалось, что нужно было ещё время для того, чтобы каждой вертикали созреть и самой стать братством. Эта задача была всем поставлена, и уже в сентябре 1999 года первая вертикаль стала первым московским братством.
Что это было за братство?
Сначала имён ещё не было, а с марта 2000 года оно стало называться Георгиевским. Это было первое малое братство, в котором тогда со своей первой общиной был и я.
Вы были его первым председателем?
Я был председателем всего Преображенского братства. Но это первое московское братство ещё не могло выбирать себе председателя, ибо оно только-только появилось как братство. Вначале я был и его председателем, но очень быстро, как только у этого братства появилось имя, то есть когда первое братство стало называться Георгиевским, я уже попросил совет братства выбрать другого председателя. Им стал Сергей Каринский – глава второй общины этого братства, потомок дореволюционного заслуженного ординарного профессора Санкт-Петербургской духовной академии Михаила Ивановича Каринского и членкора АН СССР Николая Михайловича Каринского.
А совет Георгиевского братства был собран по тому же принципу, что и сейчас, то есть он состоял из глав общин, их заместителей и старост групп?
Тогда заместителей ещё не было, а главы и старосты были. Они всё так же выбирались каждый год на общем собрании своих общин и групп.
И как прошли выборы председателя?
А как они могли пройти? Очень просто: я порекомендовал Серёжу, его же и выбрали большинством голосов. А по-другому и не могло быть, потому что, как говорится, вариантов не было. Хотя, к сожалению, надо сказать, что отношения с Серёжей, как со старшим, у меня не сложились. Сергей постепенно отходил от братского единства и в конце концов покинул братство. Я думаю, что он об этом сейчас жалеет.
Надо сказать, что к середине 2000 года многие московские вертикали уже родились как малые братства. Они установили братские отношения между вошедшими в них общинами и группами, между всеми братчиками, выбрали своих старших и своё имя. Это было в Москве. А заодно и все немосковские братства, если они по численности входили в соответствующие рамки, если в них было не меньше тридцати и не больше ста человек, тоже стали приравниваться к малым братствам. А если в каком-то малом братстве было больше 80–100 человек, они могли делиться пополам, потом ещё пополам и т. д. Делиться или, как мы говорим, «умножаться», ибо таким образом братства умножаются.
А как для вертикалей ставилась задача стать братством, что за этим стояло? Что значит стать малым братством?
Я уже сказал, что нужно было увидеть своего старшего, который стал бы председателем малого братства, нужно было взять на себя ответственность в церкви, подобную той, которую несёт Преображенское братство. Преображенское братство при этом сохранялось, а малые братства не становились совершенно самостоятельными, независимыми ни от кого и ни от чего. Как раз тогда появилось правило, что в малом братстве не может быть меньше 30 и больше 100 человек и что в нём должны быть хоть одна община и хоть один катехизатор. Если же нет ни одной общины, то это скорее ещё предбратство, как мы их называем теперь. И ещё всем нужно иметь служение, особенно в общинах.
Вот тут ярко проявилось то, что общины и группы должны не только общаться друг с другом, что само собой, но ещё должны иметь какое-то общепризнанное служение. Было важно признать, что человек, не служащий Богу и церкви, в служащем братстве полным членом быть не может. Братства и общины должны быть служащими, и значит, каждый человек в них должен быть служащим. Другое дело, что не все могут нести большие, серьёзные, как бы глобальные служения. Кто этого не может, те могут брать на себя малые служения, которые мы теперь называем сослужением. В братстве может быть служение или сослужение. Служение при этом мы отличаем от послушания и от доброго дела или работы3.

Появление малых братств – это ещё и огромный риск. Потому что просто в силу человеческих немощей вполне можно себе представить и выявление в них сепаратистских настроений: мол, у нас своё братство, свой старший, свои порядки, и нам больше ничего не надо. Тем более что везде по-своему продолжалось оглашение, по-разному устраивалось общение и с Вами, и с другими братствами, особенно в регионах. Были ли у Вас здесь какие-то проблемы?
Всё-таки есть ещё председатель Преображенского братства и его духовный попечитель. Когда появились малые братства, я перестал быть председателем, а стал попечителем. Мне не хотелось называть себя, как Н.Н. Неплюев, «блюстителем», потому что иначе сразу скажут: вот, батюшка метит в епископы. Мне хотелось себя как-то поскромнее назвать, и «духовный попечитель», мне кажется, это адекватно.
А почему не духовник?
Потому что духовник занимается только исповедью и покаянием, а духовный попечитель смотрит за качеством всех сторон жизни. При этом он не вмешивается в чужую жизнь, а помогает. Но, конечно, он может быть и духовником, это одна из возможных его функций.
По желанию того, кто к нему приходит?
Или так, или по необходимости, если, допустим, есть тяжёлые, смертные грехи. Епитимью с отлучением от причастия может накладывать в Преображенском братстве только его духовный попечитель. А смертные или близкие к ним грехи вполне чётко определены, это определённый список грехов, и фантазий здесь не должно быть.
Вообще же сепаратистские тенденции, конечно, могут быть и бывают. Есть у нас один такой пример. В одном из немосковских братств его председатель, сам священник, как раз так себя и повёл. Он увёл с собой братство, построив его под себя, потому что не понимал того, что происходит в Преображенском братстве и сам оказался не очень трезвенным и церковным и к тому же довольно честолюбивым. Так что никто ни от чего не застрахован, могут быть и какие-то расколы. С одной стороны, у нас в братстве нет крепостной зависимости, люди свободны. Если они хотят уйти из братства, мы их, что называется, за это не преследуем. С другой стороны, без искушений не бывает, каждый сам должен смотреть за собой. А когда это делается на уровне нескольких человек, или целой группы, или общины, или малого братства, это уже говорит о каком-то разделении, что всегда печально. Но всё-таки я могу сказать в целом за все годы, даже десятилетия, что, слава Богу, Господь нас уберегает и от расколов, и от потери внутреннего и внешнего единства. Потому что «единство духа в союзе мира» (Еф 4:3) в нашем Братстве есть.
В 2002 году окончательно оформилось родившееся в 2000 году Преображенское содружество малых братств, потому что к тому времени все вертикали и немосковские общины и группы уже стали братствами. Как только вертикаль находила себе имя, выбирала председателя и устанавливала в себе братские отношения, при условии наличия хотя бы одной общины и хотя бы одного катехизатора, я считал её уже самостоятельным малым братством. Этот процесс занял два года.
Очень быстро!
А мне кажется, что очень медленно.
Можно ли сказать, что каждое малое братство – это по сути то же Преображенское братство, просто меньшего размера?
Малое братство – это и есть часть Преображенского братства.
Но при этом у каждого из них всегда есть какое-то своё лицо, свои дары и служения.
Я очень рад этому, я и хотел, чтобы каждое братство имело своё лицо, но это получалось не сразу. Оказывается, для этого тоже нужно было созреть. Это лицо не приобреталось по чьей-то указке, «по щучьему велению, по моему хотению». Оно должно было явить себя, и сейчас все малые братства у нас имеют своё лицо, чему я действительно очень рад.
Структуризация нашего братства шла не как что-то внешнеорганизованное, а как то, что рождалось изнутри, почти само. Теперь оно называется Содружеством малых православных братств. Мы очень рады, что сейчас у нас таких малых братств больше тридцати.
Так шла по мере необходимости структуризация нашего братства. Не как что-то внешнеорганизованное, а как то, что рождалось изнутри, почти само. Наше братство внутренне преобразилось и преобразовалось. Теперь оно называется Содружеством малых православных братств. Мы очень рады, что сейчас у нас таких малых братств больше тридцати.
Этот процесс был для нас в братстве очень важен, потому что благодаря ему Братство не только сохраняло самоё себя, но обретало новые силы для самостоятельной жизни в каждом малом братстве, в каждой общине и группе и могло дальше двигаться вперёд, причём самостоятельно. А когда есть свободное движение, определённое духом общинно-братской жизни, тогда естественно рождается большее многообразие во всём Преображенском братстве. Я уж не говорю про то, что это и фактор стабильности, потому что когда всё не сводится только к одному человеку, разбить такое братство уже значительно труднее.
Беседовал Андрей Васенёв
Фото из архива Анатолия Мозгова





————
1 Предыдущие интервью об истории братства были опубликованы в «Кифе» № 3 (307), № 6 (310), № 7–8 (311–312) за 2024 г. и в «Кифе» № 1 (317) , № 2 (318) и № 4 (320) за 2025 г.
2 Группы Преображенского братства рождались естественным путём в результате длительного (1–1,5 года) оглашения: чаще всего люди не хотели после воцерковления расходиться и кроме участия в приходских богослужениях встречались раз в неделю для совместного чтения Евангелия, обсуждения насущных вопросов церковной жизни, а раз в два месяца – на праздничные агапические трапезы после совместного участия в литургии. В какой-то момент своей жизни группа могла родиться в общину (о том, как это происходило, см.: «Рождение общины и братства», «Кифа» № 2 (318), февраль 2025 года). Во главе каждой группы стоит староста, во главе общины – глава общины; они избираются раз в год, в группе – большинством голосов, в общине же при этом выборе всегда ищется полное единодушие. Так как в 1990-е годы множество людей стремились к осознанному вхождению в церковь и в Братстве проходили оглашение по тысяче человек в год, стремительный рост числа общин и групп неудивителен.
3 Подробнее об этих различиях говорится в некоторых более ранних материалах «Кифы», например, в интервью с В.И. Якунцевым («Кифа» № 6 (322), июнь 2025 г.)