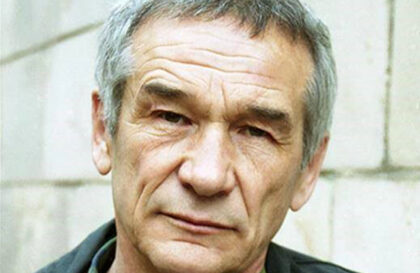Когда-то в советской школе период между двух революций называли «безвременьем». Говоря так, учителя-словесники исходили не только из идеологических предпосылок, но и из настроений дореволюционной интеллигенции. Царство Духа на земле, торжество Третьего Завета, которым грезил Серебряный век, после 1905 года отодвинулось в неопределённое «завтра». Время устремилось в дурную бесконечность. Казалось, всё позади и всегда будет позади, и ничего существенного уже не случится.
Правда, если взглянуть на дореволюционную ситуацию глазами историка литературы, никакого падения в никуда не было: создавались замечательные произведения, исследовались интересные проблемы. Но что-то важное из жизни ушло, о чём, к примеру, свидетельствуют стихи Дмитрия Мережковского 1914 года:
«Христос воскрес!» – поют во храме,
Но грустно мне, душа молчит.
Мир залит кровью и слезами,
И этот гимн пред алтарями
Так укоризненно звучит.
Когда б Он был меж нас и видел,
Чего достиг наш страшный век,
Как брата брат возненавидел,
Как опозорен человек!
И если б здесь, в блестящем храме,
«Христос воскрес!» – Он услыхал,
Какими б горькими слезами
Перед толпой Он зарыдал!
Теперь-то мы знаем, что ничто никуда не уходило, просто оказалось под спудом. И революционные события сделали явными живые силы Церкви. Но ситуация пустоты, захватившая культурный слой дореволюционного общества, давила на всех.
Любопытно, что «глухие годы» Российской империи удивительным образом рифмуются с брежневским застоем. И когда, например, советский человек читал блоковское «Ночь, улица, фонарь, аптека, / Бессмысленный и тусклый свет. / Живи ещё хоть четверть века – / Всё будет так. Исхода нет», он узнавал свои жизненные обстоятельства.
В эпоху Брежнева миф о коммунизме окончательно утратил свою силу. Если мы обратимся к неподцензурной советской литературе, то увидим, что именно в это время развивается метафизическая поэзия, появляется немало стихов на религиозные темы.
В творчестве Бобышева, Волохонского, Кублановского оживает православная Россия. При этом христианский поэт Олег Охапкин восклицает: «Безвременье. Каких пустот / Ещё желать! / Так пей же, Муза, / Пей до дна! / Для нас прострация одна / Осталась, да секач… А наплевать!».
Другой метафизический поэт, участник группы «Хеленукты» Александр Миронов в стихотворении «Безвременье. Пиши хоть наобум» (1982) сопрягает безвременье с растворением всего и вся в общем гуле: «всё равнозвучно, всё отречено, / как под землёй гниющее величье – / преображенье времени в одно / голосованье, голословье птичье». Речь, по Миронову, устремляется в египетскую тьму «и с каменным не расстаётся словом».
А вот Александр Величанский связывает безвременье не с текущим моментом, а с концом мира, когда говорит: «Так что ж нас ждёт, скажи же / ради Бога – / казённый дом иль дальняя дорога? / могила, что укромнее подлога? / Души ли взвесь – бишь смесь добра и зла? / – Гнедой огонь Пришествия Второго, / и белый дым Пришествия Второго, / и чёрный угль Пришествия Второго, / и бледного безвременья зола». По мысли поэта, «зола безвременья» нас ждёт в будущем, но не сейчас, в эпоху поздней советской стабильности.
Что бы ни писали авторы о пустоте жизни, религиозный дух, а также новые представления о демократии не позволяют характеризовать брежневский застой одним словом «безвременье». Всё было гораздо сложнее. Хотя «страшный мир» Блока, бесспорно, присутствовал в жалком советском быте.
* * *
Мартин Хайдеггер назвал свой фундаментальный труд «Бытие и время». Союз «и» выражает ту взаимосвязь, осуществиться которой позволяет само бытие, а не человек. Время уходит в онтологию. Оно не сводится к минутам, часам, дням, годам, одним словом, к счёту. Во времени живёт слово. Хайдеггер говорит, что в разомкнутом мире время опубликовано.
В безвременье мы наблюдаем совсем другую картину: горизонт тёмен, онтология провисает, превращается в пустую абстракцию или в ужас, в тоску. Она не может обнаружить себя в литературе в качестве героического настоящего. Мы оказываемся в ситуации забывания. Не в той банальной ситуации, когда память слабеет, и мы усилием воли пытаемся восстановить прожитое. И даже не в том положении, когда хотим понять ход истории, как всё было на самом деле. Всё гораздо печальнее: в безвременьи происходит сокрытие и прошлого, и настоящего, и будущего. Мы не понимаем, что, собственно, надо вспомнить, не находим нужный ракурс и погружаемся в Лету. Человек мыслящий оказывается сокрытым и непрочитанным. Об этом Хайдеггер пишет в другой своей работе – «Парменид».
«Непрочитанный» человек живёт на границах, не погружаясь в пространство как в своё, освоенное им, внутренне принятое, очеловеченное. Человек безвременья не занимается делом, поскольку не видит смысла ни в одном занятии, и всегда оказывается «между». Это происходит, например, с «бородатеньким», лирическим героем Андрея Дмитриева. Фантасмагории помогли Дмитриеву создать образ всегда двоящегося, сомневающегося, «как бы живущего» героя. «Тебя нет», – сказал о нём поэт:
Нет, нет, нет, нет. Ты живёшь в доме, который
кто-то придумал и кто-то построил,
носишь одежду, которую кто-то сшил,
ходишь по улицам, которые кто-то
спроектировал и проложил,
пищу ешь, неизвестно кем приготовленную,
книги читаешь, которые кто-то написал,
выполняешь работу, ни начало, ни цель которой
тебе неизвестны,
тебя могло бы вовсе не быть – никто бы не заметил.
Да что это я, в самом деле, –
тебя и нет, бородатенький!
Дмитриев создал образ человека, существующего в своём исчезновении. «Тебя нет» – это проектируемая будущность героя, который боится, что это произойдёт, что он на самом деле станет вещью. И страшится этого. В словах Дмитриева звучит тревога. Если следовать Кьеркегору, в чувстве тревоги – свобода. Человек-вещь испытывает просто страх перед лицом опасности. В то время как тревога обращена к внутреннему человеку. Поэтому тревожные интонации стихотворения как раз свидетельствуют о том, что «я» ещё не превратилось в вещь, что ещё не всё потеряно. Шкаф не волнуется по поводу того, что он шкаф, и просто занимает пространство в комнате. Конечно, его могут вынести на помойку. Поэтому он в состоянии испытывать страх. Но тревожиться он не может. Тревожные слова о себе – правда перед лицом бытия. Такие речи имеют характер исповеди. Подобные стихи – парресия1, свободоречие, ибо они открывают глубину сущего.
Позиция отрицания в отношении самого себя позволяет поставить вопрос о присутствии в его исчезновении. Ничто появляется не как голос отрицания (денег нет, Саши здесь нет), а как проявленная истина. До написания этого текста мы её не знали. «Я» перед лицом «я» разоблачается, говорит о своём несуществовании. И субъект погружается в тягостное молчание. Выход из него – через парресию – к преображённому «я». До этого стиха «я-вещь» существовало для автора в скрытом виде, было маской, пряталось, ускользало из ясного поля сознания. И вот – больше спрятаться не удастся: возник «бородатенький», при помощи которого «я» ничтожит ничто. «Я» как присутствие берёт в плен «я» как вещь. «Я» начинает существовать через своё собственное различение. Оно слышит зов бытия, и, ничтожа ничто, существует для самого себя в качестве трансценденции.
«Я» говорит «нет» своему alter ego, «бородатенькому», как говорит политзаключённый «нет» охраннику. И это «нет», отрицательность обращены не только к «я-вещи», но и к другим вещам, толкающим «я» к перерождению.
«Нет» в условиях развитого социализма связано с публичным молчанием и иронией, с ритуальным смехом, звучащим на московско-питерских кухнях.
Если наш анализ не сбил нас с пути, для молчания, поскольку оно есть молчание, уходящее в человека, должен существовать определённый способ быть и не быть своим будущим как присутствием, являющимся этим будущим и не являющимся. Молчание «бородатенького» подвешено: оно есть способ блуждать, за-блуждаться в чужом краю, не находя себе места. Потому что любое место ненадёжно и безопасность иллюзорна. И в то же время его странствия позитивны, они способны возвратить ему его «я». Конечно, спасаясь от иллюзий, герой рискует сделать круг и вернуться туда, откуда начал свой путь, в ситуацию потери себя самого. Вечный обман возвращения. Но он может подняться чуть выше. И снова поставить перед собой вопрос: кто я?
* * *

Наше время имеет глубокую внутреннюю связь с советским застоем и с испепеляющими годами Блока.
Наше время имеет глубокую внутреннюю связь с советским застоем и с испепеляющими годами Блока. Блок отреагировал на безвременье движением стиха «над бездонным провалом в вечность». Метафизика ушла, она граничит с ничто: «И, уцепясь за край скользящий, острый / И слушая всегда жужжащий звон, – / Не сходим ли с ума мы в смене пёстрой / Придуманных причин, пространств, времен…». Всё иллюзорно, обманчиво. Всё движется вокруг условностей и пустоты. И спасение – в отказе от реальности, в забвении. Беспамятство как проект безвременья: Блок говорит именно об этом.
Интересно, что современные метафизические поэты реагируют на безвременье в блоковском духе, не прибегая при этом к характерным жестам и позам его лирического героя.
В качестве примера можно взять поэзию Натальи Черных. Ещё недавно, на рубеже тысячелетий, она ловила реальность с помощью христианства.
Здесь, наверное, есть смысл сослаться на какое-нибудь стихотворение, привести несколько строчек. Для нашей цели подходят стихи «Воспоминания о Переделкино», которые принесли Черных победу на Филаретовском конкурсе религиозной поэзии. Автор разворачивает перед нами полотно своего странствия к святыне. Причём святыней для неё являются не только религиозные раритеты, но и сам человек: «Мы ждали здесь, случается, часами / Писали письма у зелёной двери, / взволнованными пели голосами. / А он уже так редко выходил! / Впрочем, как теперь, «отец Кирилл». / На голову клал ручку правую, вот эту. / Мальчишкам раздавал конфеты… / Нам было странно и приятно, что мы паства. / Но был весёлый дух – дух братства».
Реальность, которую описывает Черных, вплетена в историю Спасения, историю народа Божия. Смысл здесь живёт и в конкретистском жесте: «ручку правую, вот эту». И в ритмических поворотах, неотделимых от содержания. И даже в трюизме: «хочу простить, и Бог меня простит». Всё здесь вещество поэзии.
Но уже немного позже героический миф начинает истончаться. Он устремляется в сторону пустоты. Черных, как и Льюис, начинает склеивать несколько мифов. На примере стихотворения «Пан у Вертепа» мы видим, что богатые речевые практики создают иллюзорную картинку, где современность присутствует на самом дальнем плане. Она является в виде чернеющего на горизонте города, который переполнен, и деревень, в которых никого нет. Добрый Пан любит чёрно-белые картинки и весёлые жесты, хотя они мало что значат для зрителя, наблюдающего за его кульбитами на поэтической сцене.
Видимо, такова структура происходящего: вечное, даже у самых метафизических поэтов, хочет выглядеть декорацией, задником сцены. Оно существует на границе между подлинной метафизикой и иллюзией. Поэзия нашего исторического момента связана с ускользающим настоящим, которое спешит в объятия декоративной вечности. Это хорошо заметно в цикле «Ответ Паулы», где условность переписки подкреплена хохотом менады и беседой женщины с саженцем.
Читая подобные тексты, мы видим, что современность связана с жаждой развоплотить реальность. Мы не можем зафиксировать в художественной форме подлинную жизнь, не можем даже поймать наше «я».
Присутствие иного как Смысла стало проблематичным. Иное ускользает в творчестве многих поэтов, и, если где-то появляется, то звучит отголоском старого литературного опыта. Клиповое сознание уничтожает дискурс одним движением мышки, воздух между словами выкачан, чёрные дыры близки.
Слово автора живёт пустыми действиями безвременья, которое не нуждается в сложных играх. Суть человечества выводится из хаоса мнимостей, из театра теней.
* * *
История часто ходит кругами и многие вещи повторяются. Вместе с ними повторяются некоторые поэтические интуиции, связанные, в частности, с чувством безвременья.
«Мы организуем стабильный мир, никуда дёргаться не надо», – шепчет время. Но этот шёпот не вечен. Литературовед Михаил Бахтин, слышавший его долгие годы, однажды, изучая Достоевского, услышал что-то совсем другое. И написал: «Ничего окончательного в мире ещё не произошло, последнее слово мира и о мире ещё не сказано, мир открыт и свободен, всё ещё впереди и всегда будет впереди».
Борис Колымагин
————
1 Греческое слово парресия (παρρησία) буквально означает «говорить всё» и «свободно говорить», «говорить смело». С.С. Аверинцев в «Поэтике ранневизантийской литературы» пишет: «Парресия – “свободоречие”, право говорить перед Богом или людьми без боязни, без робости и смущения. Классическое античное сознание рассматривало парресию как атрибут полноправного гражданина в кругу равных (противоположность – скованность и приниженность раба). Христианское сознание усмотрело в парресии дар Бога, утраченный человеком при грехопадении; только праведник, до конца победивший грех, заново обретает это исконно человеческое первородство».
Кифа № 1 (281), январь 2022 года