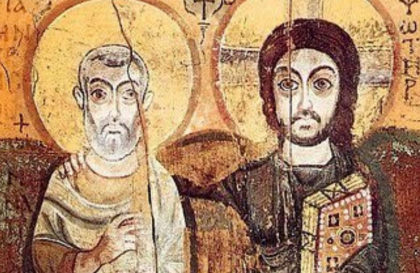Интервью с Вячеславом Владимировичем Игруновым, директором Института гуманитарно-политических исследований

Задумывается ли человек сегодня о святыне – общерусской или личной, семейной?
Прежде всего, в самой постановке вопроса заключается проблема и сложность. Мы говорим об общерусских святынях в то время, когда мы не дали ответ – кто мы, русские. Ведь мы же очень разные.
Екатерина Вторая – она русская? А князь Багратион? А писатель Пастернак? А башкиры и татары? Мы что, татар из нашего русского мира исторгнем?
Нет, этого делать нельзя.
Правильно. В том понимании русскости, о которой я говорю, мы, русские, объемлем всех, с кем идём в будущее. Посмотрите, многие русские впитали в себя и балтов, и чувашей, и удмуртов, и коми-зырян. Они же русские, имена и фамилии у них русские и идентичность у них – русские, но при этом они не забывают свои этнические особенности.
Поэтому я безусловно вижу как важнейшую общерусскую святыню – нашу общую историю. Её надо беречь. Она наш учитель. Она основа нашей идентичности, она на каждом шагу учит нас, если мы в состоянии учиться. Некоторые говорят, что история никого ничему не учит, только наказывает за невыученные уроки. Так вот, это очень близко к истине. Но кто хочет учиться – тот будет учиться и припадёт к этой святыне.
Помните слова Пушкина из письма к Чаадаеву – «Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал»? А ведь в этой истории было и вырезание тверичей московскими князьями, и отрезание носов и утопление в Волхове новгородцев, и разорение их имений, и депортации. И, тем не менее, Пушкин от этого не отрекается.

Как правило, великие писатели, великие идеи возникают после великих потрясений, большого горя. И такое большое горе в нашей истории было. Поэтому её нельзя делить, что-то выбрасывать. Её нужно принять всю, и с радостью за прошлое, и с болью за прошлое. Вот это и есть самая великая святыня.
Наша история ещё более трагична. У нас был 1917 год. И после него двадцатые годы, тридцатые годы и дальше. Это ужасная история. Но она часть нашей святыни, потому что не бывает так, чтобы великие страдания не научили человека чему-то очень важному. Нам нужно постоять в молчании перед Соловецким камнем. Нам нужно своих детей учить той боли, которую мы испытываем, когда думаем об этом периоде. Ведь это переживание за страну. Отчасти есть итог этой боли, итог этого страдания, и он, этот итог, может существенно помочь учить наши поколения, поколения молодых – человечности и (боюсь сказать это слово) праведности. Это очень важный учитель. Не бывает так, чтобы страдания, отпущенные людям историей, не научили их ничему. Как правило, великие писатели, великие идеи возникают после великих потрясений, большого горя. И такое большое горе в нашей истории было. Поэтому её нельзя делить, что-то выбрасывать. Её нужно принять всю, и с радостью за прошлое, и с болью за прошлое. Вот это и есть самая великая святыня.
А ещё, конечно, в жизни у каждого человека есть свои святыни, и иногда они вполне вещественные. Для меня это, например, переписка моих родителей в те дни, когда я вот-вот должен был появиться на свет. А для моих детей главная святыня – история рода. Мы из крестьян, у нас корни очень короткие, они обрываются в конце XIX века. Это совсем мало. У кого-то из моих приятелей родословная восходит к XVI веку. У меня корешки коротенькие, но есть предание о родителях моей матери. И то, что мы узнали о них, это то, что нужно беречь, ценить, передавать из поколения в поколение. И для того, чтобы это помогало растить достойных людей, нам надо помнить их историю, и историю их родителей, и мою историю – она тоже может научить чему-то моих детей. Я думаю, что мои дети будут жить достойно и учить жить достойно своих детей. Ведь на личном примере гораздо легче учить человека, чем по книжкам и рассказам. Личное служение, личное житие и есть главный учитель.
Беседовала Мария Акинина