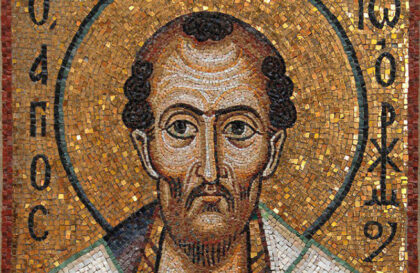На вопрос «Кифы» отвечают архиереи

Сейчас в богословском дискурсе начинается обсуждение темы различения таких категорий, как служение, послушание и доброделание. Что в Вашей жизни значат служение, послушание и доброделание? Что для Вас важнее, куда Вы прежде всего вкладываете свои силы? И что Вы можете сказать в связи с этим о священнослужителях и мирянах вашей епархии?
Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий: Главное, для чего создан человек и всё творение Божие, – это служение. Об этом хорошо сказал наш философ Иван Ильин, и я с ним полностью согласен. Главное – это служение. Доброделание должно вытекать из него.
Послушание же вещь очень интересная и требует особого рассуждения. Здесь нужно немного остановиться, потому как иногда можно услышать, что послушание – высшая добродетель. Я его таковой не считаю, потому что св. отцы говорят, что высшая добродетель – рассуждение. Да благословит вас Господь, подаст вам рассуждение.
Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор: Служение, помимо богослужения, связано с общением между людьми, а это и миссионерская, и просветительская деятельность, и помощь старшему поколению, которое уже немощно и находится в сложных жизненных обстоятельствах. Это как ниточка с иголочкой: стоит потянуть, и она всё за собой тянет. Это темы, о которых можно говорить часами, и раскрыть всё до конца мы не сможем. Да, всё это можно делать и по послушанию, поэтому здесь выделить одну грань невозможно. Когда всё взаимосвязано и гармонично, тогда реализация всех этих трёх компонентов – служения, послушания и доброделания – приносит реальные результаты. Человек не просто формально приходит в церковь, он становится действительно живой частью церкви, её членом, который не просто по традиции крещён или только по воскресеньям в храм приходит.
Что касается нашей епархии, то у нас есть благотворительное служение: и «дом для мамы», где женщины, находящиеся в трудном положении, могут пережить эту ситуацию, приобрести специальность, наладить свой быт, найти жильё, чтобы у них не было желания оставить ребёнка или не дай Бог совершить аборт, и реабилитационный центр, где мы помогаем людям, находящимся в сложных ситуациях, особенно людям опустившимся, стараемся их социализировать. У нас большое молодёжное движение, и помимо братства Александра Невского есть сестричество. Так что у нас, слава Богу, развито большое движение.

Епископ Находкинский и Преображенский Николай: Служение – это литургия, это приношение Тела и Крови Господней. А послушание – это послушание священноначалию: патриарху, Священному Синоду. И Господу Богу. Где-то это получается, где-то не получается, но самое главное – чтобы человек следовал канонам Русской православной церкви и вообще себя хранил от всех грехов.
Прихожане составляют единую Церковь, поэтому, конечно, всё зависит от священника, от архиерея: как он ведёт свой народ и куда ведёт. Он должен вести свой народ не к себе лично, а к Богу, должен сам показывать пример в доброделании. Народ, который увидит за ним это доброделание, будет идти к Богу.
У нас в епархии есть воскресная школа, сто детей. Каждую субботу и воскресенье они приходят на учёбу. Есть общение между прихожанами. Очень много причастников, в основном дети. Мы просвещаем народ, прививаем что-то святое детям. У нас очень тяжелый край, край переселенцев. Поэтому там было насаждено в своё время безбожество.
Мы изучаем по имеющимся у нас источникам жизнь новомучеников, то, как они пострадали, готовим материалы к их канонизации. Думаю, что со временем к именам двух прославленных в нашей епархии новомучеников прибавятся новые имена. Господь знает имена Своих, кто пострадал за веру. Поэтому мы молимся всем святым.

Если доброделание – это свободное волеизъявление желания человека быть полезным, то послушание – это всё-таки добровольное «вчинение» себя воле другого человека («подчинение» – не очень хорошее слово, так что именно «вчинение»). Служение я бы поставил не в ряду этих понятий, потому что служение в самом высоком смысле этого слова – это акт жертвенной любви…
Епископ Амурский и Чегдомынский Николай: Наверно, всё-таки стоит разграничивать эти понятия. Разграничивать именно с позиции свободной воли человека. Доброделание – это абсолютный акт свободной воли, правильно? А в послушании всё-таки есть некий элемент ограничения этой воли. Вспомните связанные с ним слова: «своеволие», «неволить». Есть здесь оттенки некоего ограничения свободы. Если доброделание – это свободное волеизъявление желания человека быть полезным, то послушание – это всё-таки добровольное «вчинение» себя воле другого человека («подчинение» – не очень хорошее слово, так что именно «вчинение»).
Служение я бы поставил не в ряду этих понятий, потому что служение в самом высоком смысле этого слова – это акт жертвенной любви, жертвенности. Это акт самого высокого её проявления. Служение всегда связано с жертвой. Недаром мы говорим светским людям (да и нашей пастве говорим), что неправильно, неприемлемо говорить священнику, идущему совершать богослужение, что он идёт на работу. Он идёт совершать служение. Точно так же как и в тех местах, где человеку тяжело и сложно. Там совершается служение, а не работа. И таких профессий, о которых можно сказать, что это настоящее служение, немного.
Что касается меня лично, то в моей жизни и того, и другого, и третьего достаточно. Всего поровну, потому что есть и обязанности, и свободное волеизъявление. И, конечно, как у любого христианина, есть необходимость проявления действенной, деятельной любви, жертвенного служения.
И всем нам, чтобы в этом возрастать, надо постоянно учиться. Учиться везде и всему. Что-то приходится учить заново – те уроки, которые были преподаны, но может быть, забыты, либо неправильно, не совсем глубоко поняты. Всегда приходится чему-то учиться. Не только в отношении науки, но и в отношении всех вещей, которые являются аспектами человеческой природы.
У нас суровая дальневосточная епархия. Комсомольск-на-Амуре – это север Хабаровского края. Место суровое, но благодатное. Некоторые явления столичной жизни или более центральных, развитых регионов до нас доходят с трудом. При такой суровости климата человек может надеяться исключительно на свои силы. Это сообщает определённую мудрость, определённую силу живущим в нашем крае людям. И действительно, дальневосточный народ, комсомольчане – это люди без двойного дна, совершенно искренние, порой до того даже, что думаешь, что это всё слишком непосредственно, слишком просто. Тем не менее это особенность дальневосточного народа.

Сейчас мы открываем ранее неизвестные страницы истории православной культуры на Дальнем Востоке, в Комсомольске-на-Амуре. Открываем такие страницы, которые связаны с развитием жизни православия в городе, который задумывался как город без Бога. Он должен был быть городом юных безбожников, комсомольцев, у которых совсем другие убеждения. Но говорить, что там совсем ничего не было, – это заблуждение. История, расчищенные, раскопанные пласты этого вопроса говорят, что всё было не так. Мы готовим к изданию эти материалы. Они свидетельствуют о том, что в «городе юности» была православная община. Предваряя один из моментов нашей будущей публикации, могу сказать, что среди членов этих общин были солдатки – матери и жёны участников Великой Отечественной войны. Одна из них писала в 1946 году письмо Сталину с просьбой разрешить открыть приход. Не в каждом городе в тот момент существовали храмы или даже надеющиеся открыть их общины.
Занимаемся мы в епархии и темой новомучеников, которая в принципе трудно раскрываема. Действительно, Комсомольск-на-Амуре как часть Дальлага – это место мучения многих и многих людей, в том числе, мы уверены, и священнослужителей. Об этом сейчас сложно детально рассуждать, так как многое засекречено. Но потихоньку открывается, что, например, многие исповедники, будучи заключёнными, участвовали в строительстве Комсомольска-на-Амуре. Достоверно известно о священномученике протопресвитере Михаиле Околовиче, который в 1938 году строил Комсомольск-на-Амуре и там же был приговорён за религиозную пропаганду к смертной казни. Пытались найти место этого лагеря, но, к сожалению, это был лагерный пункт, он был не стационарный, и этого не удалось сделать. Таких историй очень много и предстоит открывать и открывать многие страницы.
Беседовала Анастасия Наконечная
Кифа № 3 (319), март 2025 года